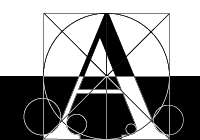![]()
missio
персоналии
события
сми о нас
![]()
исследования
проекты
издательство
образовательная программа
![]()
статьи
рефераты
ссылки
![]()
связаться
команда
сотрудничать
Горизонты ожидания или: чего хотят друг от друга читатель и авторЭтот текст – ответ на интеллектуальную «провокацию», содержащуюся а Майе Кучерской, размещенном на 21 декабря 2004 года. Мне кажется, затронул очень важную тему, сказав: «Прагматика – это еще и то, что происходит между текстом и реципиентом. В теории искусства есть три основные области. Первая – психология творчества, вторая – устройство произведения искусства. Эти сферы хорошо разработаны, но вот о третьей сфере, о том, что получает потребитель художественного произведения, соответствует ли это его вложениям и ожиданиям, сказано гораздо меньше».По сути дела, здесь затронул все вопросы, которыми занимается рецептивная эстетика – направление в европейском литературоведении, получившее наибольшее развитие на рубеже 60-х и 70-х годов в Германии. Рецептивная эстетика исходит из того, что произведение является не «литературным памятником», а партитурой, постоянно видоизменяющимся результатом «встречи» читателя и автора. При этом у этой партитуры не может быть идеального, единственно правильного прочтения – так же, как у музыкального произведения не может быть идеального исполнения. Впервые в истории филологии представители рецептивной эстетики в цепочке «писатель – читатель» поставили на первое место именно читателя. Сформулированная двумя исследователями так называемой «констанцской школы» — Хансом Робертом Яуссом и Вольфгангом Изером — рецептивная эстетика может рассматриваться в общем контексте растущей «интерактивности» массовой коммуникации конца двадцатого-начала двадцать первого века. Во многом рецептивная эстетика исходит из той же посылки, что и современный маркетинг: как любой товар в современном обществе является прежде всего отражением запросов покупателя и не имеет смысла, если не будет куплен и потреблен, так и литературное произведение не имеет смысла, если оно не прочитано читателем (а уж потом – оценено критиком или даже «канонизировано» литературоведом, который перед тем как выступить в роли исследователя является, по Яуссу, все тем же читателем)1. И как в прежде казавшемся никому не интересным потреблении товаров современные маркетологи открыли социологические, психологические и даже культурологические глубины, так же и в чтении литературного произведения представители рецептивной эстетики увидели не просто более или менее удачную интерпретацию замысла автора, а сложный многоуровневый процесс, изменяющийся от эпохи к эпохе, на протяжении жизни отдельного читателя и даже в течение нескольких часов, пока читается книга. И все же в переносе законов маркетинга на науку о литературе, включая рецептивную эстетику, есть определенная опасность: у людей, впервые знакомящихся с рецептивной эстетикой, может сложиться впечатление, что нам предлагается своеобразная «диктатура покупателя», где под покупателем должен пониматься читатель. В этом случае, соответственно, наиболее удачным произведением должна почитаться та книга, которая в наибольшей степени соответствует «вложениям и ожиданиям» читателя. По сути дела такой подход означал бы перенос на литературу экономических законов: если в экономике наша цель — уход от знакомой нам по советским временам «диктатуры производителя», то в литературе – от «диктатуры автора», если в экономике покупатель всегда прав, то принцип «читатель всегда прав» должен действовать и в литературе. Рецептивная эстетика, при всей демократичности и интерактивности своих основных посылов, все же не признает такого вульгарного переноса. Отношения автор – читатель, с ее точки зрения, не являются отношениями учителя и ученика (как они понимались в классической филологии), но они не являются и отношениями только потребителя и производителя. Читатель, по Изеру, тоже в известном смысле является производителем, поскольку он конституирует произведение – укладывает его в доступную его пониманию форму. В своей книге «Акт чтения» Изер так определяет отношения читателя и писателя: «Движение между писателем и читателем не одностороннее, оно не сводится к схеме передатчик-приемник (Sender-Empfanger). В литературных произведениях происходит взаимовлияние (Interaktion), в процессе которого читатель воспринимает смысл текста путем конституирования этого смысла».2 Отношения между автором и читателем невозможно даже сравнить с отношениями производителя конструктора и ребенка, собирающего предложенную в конструкторе модель, как в «Моделях для сборки» Хулио Кортасара. Вся проблема в том, что производитель конструктора не знает, какая модель сборки его конструктора является идеальной. Более того, этой идеальной модели нет, как нет на свете, с точки зрения Яусса и Изера, и идеального читателя. В принципе таким идеальным читателем, способным полностью исчерпать смысл художественного произведения, мог бы быть только сам автор, да и то лишь в момент создания произведения (пример – Толстой, полностью отрекающийся от своих художественных произведений в конце жизни). Для определения отношений автора и читателя основоположники рецептивной эстетики ввели особый термин – «горизонт ожидания». По определению Яусса, придумавшего этот термин, горизонт ожидания – это «комплекс эстетических, социально-политических, психологических и прочих представлений, определяющих … отношение читателя к произведению, обуславливающий как характер воздействия произведения на общество, так и его восприятие обществом».3 В упрощенном виде, горизонт ожидания – это то, чего ждет от произведения читатель, садясь за книгу. Свой горизонт ожидания, однако, есть и у автора: он тоже конституирует в своем создании образ имплицитного читателя и старается вступить с ним во взаимодействие. Причем это взаимодействие может быть не только дружеским (обращение к читателю-другу в «Евгении Онегине»), но и полемическим (единоборство автора с «проницательным читателем» в «Что делать» Чернышевского). Главное – это неравнодушие читателя и автора друг к другу, служащее предпосылкой постепенного сближения их горизонтов ожидания. «Понимание – это всегда таяние, медленная плавка этих существующих самих по себе горизонтов», — пишет Гадамер. Отличие качественной литературы от массовой, по Яуссу, — это ее стремление расширить горизонт ожидания читателя. В качестве примера Яусс приводит публикацию в 1856 году флоберовской «Госпожи Бовари». Как доказывает Яусс, читателей потрясли не столько эротические сцены, сколько созданный Флобером стиль «деперсонализированного повествования», о котором Барбе д’Оревилли пошутил, что если бы была изобретена повествовательная машина из английской стали, то она выдавала бы совершенно такие же тексты, как у Флобера. А прокуроры, как доказывает Яусс, пытались засудить Флобера не за историю Эммы, а за неспособность его текста осудить прелюбодейку, дать ее поведению должную оценку. Такая оценка, однако, делалась невозможной самим стилем романа. Публике понадобилось несколько десятилетий, чтобы окончательно усвоить и «переварить» этот стиль после первого эстетического шока. С точки зрения Яусса, этот процесс – расширение эстетического опыта – и есть основная задача качественной литературы. Что же касается массовой литературы, то здесь задача как раз противоположная – максимальное соответствие горизонту ожиданий читателя. Читатель, желающий купить Донцову, покупает именно Донцову. Попытку же Донцовой писать не как Донцова он совершенно справедливо расценит как совершеннейший обсчет и обвес. Все эти наблюдения приводят нас к более широкому пониманию задач литературы, чем лишь соответствие «вложениям и ожиданиям» читателя. Восточногерманский филолог Манфред Науманн после долгого поиска баланса между «автономистскими» теориями литературы и теориями исключительно рецептивными вывел для обозначения своей позиции любопытную формулу: «Полная реализация заложенных в литературе автономных возможностей – составная часть ее общественной функции».4 В переводе на обычный язык это означает: лучше всего осчастливить читателя можно, оставаясь свободным от него.
|
Комментарии:к данной статье нет комментариев |