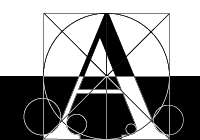![]()
о нас
персоналии
сми о нас
![]()
проекты
издательство
кафедра
![]()
книга
термины
IMHOclub
![]()
исследования
аналитика
ссылки
|
Сост. Дени Олье. Перевод с фр. Ю. Б. Бессоновой, И. С. Вдовиной, Н. В. Вдовиной, В. М. Володина. СПб.: Наука, 2004. 588 с. Тираж не указан. (Серия “Классика социологии”)
Книга Дени Олье, в которой реконструируются заседания так называемого “Коллежа Социологии” — одного из центров западноевропейской радикальной мысли второй половины 1930-х годов, — была выпущена в 1979 году парижским издательством “Галлимар” и немедленно вошла в джентльменский набор интеллектуалов, интересующихся идейным ландшафтом эпохи тоталитаризма. Перевод “Коллежа социологии” на русский язык, осуществленный с дополненного издания 1995 года, следует считать важным событием в отечественном культурном пространстве. Дени Олье — автор книг о Жорже Батае (La Prise de la Concorde: Essais sur Georges Bataille, 1989), о Жане-Поле Сартре (Politique de la prose: Jean-Paul Sartre et L’an quarante, 1982) и о французской литературе той поры (Les dеpossеdеs: Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, 1993). Олье принадлежат также интереснейшие развернутые комментарии к сочинениям Батая. В книге, которую теперь издала в переводе “Наука”, Олье не только опубликовал уникальный (и наиболее полный на сегодняшний день) свод материалов Коллежа, но и предложил оригинальную интерпретацию текстов, влияние которых на европейское мышление трудно переоценить. Коллеж Социологии (термин был предложен Жюлем Монро, впоследствии отколовшимся от группы) — сообщество радикально мыслящих людей, регулярно, с ноября 1937-го по июль 1939 года, собиравшихся в книжном магазине на улице Гей-Люссака в Париже для обсуждения проблемы сакрального. Основатели Коллежа — Жорж Батай, Роже Кайуа, Мишель Лейрис, Пьер Клоссовски, а также те, кто присоединились к ним позднее, пытались внедрить в свою “сакральную социологию” этнологию, теологию, политику, филологию и философию. Хотя участники Коллежа (между которыми не было полного единства в понимании проблемы сакрального) шли по следам социологии Э. Дюркгейма, М. Мосса, Л. Леви-Брюля и др., их методы менее всего можно назвать ортодоксальной наукой. В ход шли также внутренний опыт и экзальтированная жизнь чувств: основной задачей Коллежа являлось внедрение сакрального в жизнь, “регенерация” сакральных феноменов в современном мире. Под сакральным в Коллеже понимались объекты двойственной природы, коими когда-то были не только короли, но и отбросы, менструальная кровь, трупы, изгои, проститутки, палачи, — в общем, все инородное, исключенное из общества, ведь sacer переводится с латинского и как “святой”, и как “проклятый”. Основатели Коллежа ставили себя в позицию не столько ученых-социологов, сколько “колдунов”, призванных манипулировать сакральным. Когда Мишель Лейрис и Роже Кайуа отказались от участия в “богослужениях”, чтобы заняться чистой наукой, Коллеж распался. В своей книге Олье собрал тексты таких разных философов, этнологов, переводчиков, писателей и эссеистов, как Жорж Батай, Роже Кайуа, Жорж Дютуи, Рене Гуасталла, Пьер Клоссовски, Александр Кожев, Мишель Лейрис, Анатоль Левицки, Ганс Майер, Жан Полан, Дени де Ружмон, Жан Валь. Конечно, составителю не удалось реконструировать заседания Коллежа до конца: далеко не все выступления участников сохранились. Иногда Олье замещает утраченный доклад текстом, взятым из другого источника, — так, вместо выступления Кожева на втором заседании 4 декабря 1937 года публикуется небольшой фрагмент его семинаров. Из заседания, посвященного трагедии (состоявшегося 19 мая 1938 года), на котором выступали Жорж Батай, Жан Валь, Дени де Ружмон и Пьер Клоссовски, уцелел лишь перевод текста Кьеркегора об “Антигоне”, выполненный Клоссовски. Тем не менее работа, проделанная Олье, производит сильное впечатление — в процессе чтения рождается ощущение настоящего, переживаемого здесь и сейчас.
Наука ad hominem, или “Открытая рана” жизни Выражаясь словами Батая, можно сказать, что философы 1930-х вернулись к конкретному: никто больше не слушает оратора, их глаза прикованы к мухе, ползающей у него на носу, всех занимает Я философа, вышедшее на первый план. В полемике начинает играть важную роль биографический аргумент или, как напишет Батай в письме Кожеву, — “открытая рана” жизни. Вербализовать ее непросто — красноречие участников коллегии своеобразно. Батай говорил медленно, подыскивая слова, словно творил в процессе высказывания; Кайуа слегка заикался; славянскому шарму речи Кожева исследователь Доминик Офре посвятил специальную главу в своей книге (Dominique Auffret. Alexandre Kojeve: la philosophie, l’еtat, la fin de l’histoire, 1990). Бытует расхожее мнение, что компания Батая, как раз в период Коллежа, представляла собой своего рода кунсткамеру, населенную нравственными уродами, сексуальными девиантами, фашистами, коммунистами и им подобными извращенцами. Батай не вылезал из борделей, Кайуа якобы проповедывал фашизм, Кожев обожествил Сталина именно тогда, когда репрессии в Советском Союзе достигли пика… Если рассуждать таким образом, то моральную устойчивость среди тех, кто посещал заседания на улице Гей-Люссака, сохраняли, пожалуй, только Жак Лакан, озабоченный карьерой психоаналитика и обремененный тремя детьми (четвертый ребенок — дочь Джудит — родится в 1941 году от жены Батая Сильвии)1, и Вальтер Беньямин, строчивший из Парижа письма Адорно и Хоркхаймеру с просьбами не публиковать его резко отрицательные отзывы о Батае в Zeitschrift fur Sozialforschung, поскольку Беньямину все еще требовались услуги Батая-библиотекаря (в дальнейшем именно Батаю личный архив Беньямина был передан на хранение). Деятельность Коллежа Социологии презрительно расценивалась немецкими коллегами из Института социальных исследований — то как запоздалый всплеск сюрреализма, то как опасное проявление фашизма. Доклад члена Института социальных исследований Ханса Майера “Ритуалы политических объединений в Германии эпохи романтизма”, прочитанный в Коллеже за несколько месяцев до начала войны, воспринимался как обращенное к группе предупреждение, касающееся фашистского потенциала, заложенного в стремлении создать сакральную общность. Не беря на себя миссию защищать Батая и К° от обвинений2, скажу лишь, что любые поведенческие и интеллектуальные “отклонения” в описывамом “хабитусе” подлежали тщательной рефлексии и служили главным топливом “научных изысканий”. Пламя науки, ведущей свою речь ad hominem, буквально пожирало жизнь тех, кто пытался балансировать на тонкой грани абстрактных понятий и их конкретных (экзистенциальных) воплощений. Дени Олье опускает все подробности и точные детали, связанные с личной жизнью Батая этого периода, хотя и подчеркивает их общую функцию — быть генератором идей философа и тех, кто был заворожен его харизматической личностью (любопытные характеристики Батая можно найти на страницах 200, 291, 397, 571). Между тем жизнь вокруг Батая ломала все известные нарративные схемы, в том числе и признаваемые им самим в качестве поведенческого образца (Достоевский, Ницше, де Сад). В повседневность как бы встраивалось странное, словно неземное измерение. Вот один из сохранившихся (в описании Пьера Клоссовски) ритуалов тайного общества “Ацефал”, которое предшествовало образованию Коллежа Социологии: “с вокзала Сен-Лазар члены общества поодиночке доезжали на поезде до маленькой станции Сен-Ном-ла-Бретеш, странно затерявшейся среди лесов, и шли от нее — в одиночестве и молча, во мраке — до упавшего дерева (поверженное дерево призвано символизировать внезапно наступившую смерть того, что было лучше всего укоренено). Там жгли серу” (Мишель Сюриа. Жорж Батай, или Работа смерти. Глава “В нас все взывает к опустошению смертью” // Иностранная литература. 2000. № 4). А вот другая “поездка за город”, по времени совпадающая с заседанием Коллежа Социологии, на котором выступал Кожев: как свидетельствовал Батай в приложении к “Виновному” (Le coupable, 1944), в декабре 1937 года они отправились в Мальмезон. Морис Эн, исследователь и издатель маркиза де Сада, проводил Колетт Пеньо и Батая к тому месту, где маркиз желал быть погребенным в простом деревянном гробу, без всяких церемоний. Компания пробиралась сквозь лес, шел снег, дул сильный ветер… На обратном пути Морис покинул своих друзей, которые спешили на ужин с Георгием Ивановым и Ириной Одоевцевой. Ужин, как и предполагал Батай, оказался столь же диким, как и ветер, дувший в Мальмезоне: раздевшись догола, Одоевцева начала блевать…
Лишние люди, или Негативность без применения Как бы то ни было, по мнению Олье, подход Батая и Кайуа к организации первого года деятельности Коллежа был глубоко продуман. На первом заседании — метафизические пролегомены к сакральной социологии (доклад Батая “Сакральная социология и отношения между “обществом”, “организмом” и “существом””), в начале января — развивающий тему сакрального пространства доклад Лейриса “Сакральное в повседневной жизни”. Между ними — выступление Кожева. Олье выбрал для презентации в сборнике небольшой текст Кожева о Наполеоне — человеке действия (то есть негативности), который якобы появляется в 6-й главе гегелевской “Феноменологии Духа”3 и призван завершить историю. Согласно Кожеву, Гегель мечтал подарить Германию Наполеону: “Гегель признает и открывает Наполеона Германии. Он верит, что сумеет ее спасти (благодаря Феноменологии), сохранить в снятом (aufgehoben) виде в объятиях наполеоновской Империи” (с. 55; здесь и далее ссылки на рецензируемое издание. — Н. Г.). Гегель надеялся в 1806 году, что Наполеон призовет его и сделает Философом универсального гомогенного государства. Став советником этого “совершенного человека”, Гегель сформировал бы единство Сознания (Наполеон) и Самосознания (Гегель), союз универсального Действия и абсолютного Знания. Гармонии, которая царила в паре Наполеон–Гегель, Кожев противопоставляет беспомощность Новалиса перед лицом наполеоновской власти. При этом Кожев считал, что Гегель ошибся на полтора столетия: завершить историю призван не Наполеон, а Сталин. Возможно, в интерпретации гегелевских подтекстов сказалась мечта самого Кожева стать верховным Мудрецом в сталинской империи. Выступление Кожева было принято на свой счет Батаем, который отождествил себя одновременно с непризнанным, вынужденно бездействующим Гегелем, с Новалисом, который бежал от действия в языковую игру, и с неким невообразимым, невозможным ничтожеством, которое должно не просто обозначить конец истории, но и опровергнуть систему абстракций, выстроенную Гегелем. Вслед за текстом Кожева публикуется письмо Батая: с этих страниц словно звучит крик раненого животного, которое страдает от вонзающихся в его тело новых и новых клинков — абстрактных категорий, ведущих смертельную игру на живой, чувствительной плоти: “Если действие („делание“) является — как говорит Гегель — негативностью, то тогда встает вопрос, не исчезнет ли негативность того, кому „больше нечего делать“, или будет существовать в состоянии „негативности без применения“: что касается лично меня, то я могу решить этот вопрос только в том смысле, что я сам являюсь этой „негативностью без применения“ <…> Я думаю, что моя жизнь — <…> ее открытая рана — сама является опровержением замкнутой системы Гегеля. Вопрос, который Вы ставите по поводу моей персоны, сводится к тому, чтобы знать, ничтожен я или нет…” (с. 58) . Начиная с выступления Кожева, в Коллеже много теоретизируют о “человеке действия”: в докладе Батая “Ученик колдуна” обсуждаются понятия действия, вымысла и существования: “только действие способно преобразовать мир, то есть сделать его похожим на мечту” (с. 205). Современному человеку следовало бы вернуться в “тотальное существование” (l’existence totale), которое Батай и отождествляет с недосягаемой мечтой. В идее тотальности заключена особенность “негативности”, как она понималась в рамках Коллежа. Дени Олье начинает свою книгу главой “Нет... Нет...”, желая подчеркнуть повышенный интерес описываемого им хабитуса к фигуре отрицания. Между тем абсолютная негативность (присоединюсь здесь к рассуждениям М. Сюриа) для Батая вовсе не так однозначна — она направлена на достижение утраченной целостности тотального существования. Первый же доклад Жоржа Батая в рамках Коллежа проповедует некое “причащающее движение”, направленное на соединение всего со всем. Батай ищет не столько абсолютную негативность, сколько высшую полноту, в которой отрицание Всего встречается с всеобъемлющим “да”, а депрессия преобразуется в энергию, как это описывается в докладе 1939 года “Радость перед лицом смерти”.
Левое или правое? Большинство тех, кто читал доклады в Коллеже, стремилось перещеголять политических радикалов в радикальности мысли — но не действия. Разве что Анатоль Левицкий, читавший в марте 1939-го лекции о сибирском шаманизме, организовал в 1940-м сеть Сопротивления в Музее Человека (где работал и Лейрис), за что и был расстрелян в 1942-м. Что касается “фашистской” стороны данного “хабитуса”, то один из ритуалов основанного Батаем в 1936 году общества “Ацефал” состоял в том, чтобы не подавать руки антисемитам. Хотя в Коллеже таких акций и не наблюдалось, во всяком случае ему было далеко до крайне правой общественно-политической газеты “Повстанец” (организованной в Париже в январе 1937 году). В эту пору Батай даже не был знаком с Морисом Бланшо, который отчасти финансировал это издание. С другой стороны, и крайне левые круги не были близки социологам сакрального. Ни активный коммунист Борис Суварин, у которого Батай увел Колетт Пеньо, ни близкая Суварину юная анархистка Симона Вейль (автор 6-томного собрания сочинений), выведенная Батаем в “Небесной сини” (написанной в 1935 году) под именем Лазарь в качестве земного воплощения Смерти (которая настигнет ее в 35 лет), не посещали заседаний Коллежа. “Правые” и “левые” политические организации интересовали Коллеж лишь как отражение сакральных феноменов. Правое и левое определялись членами группы по отношению к “сакральному ядру”: о правом и левом сакральном говорил Мишель Лейрис в докладе “Сакральное в повседневной жизни”, посвятив его собственному детскому опыту: “перед лицом правого сакрального родительской величественности зарождалась подозрительная, темная магия левого сакрального” (с. 78). Левое сакральное связано с нешуточной опасностью: “однажды, когда я бегал вокруг унитаза, изображая цирковую лошадь, у меня там застряла нога, и испуганные родители с большим трудом ее вытащили”. В январе-феврале 1938 года Жорж Батай прочел цикл из двух докладов, в котором уделил внимание анатомии сакрального объекта: с точки зрения Батая, “в целом левое вызывает отвращение, а правое — влечение <…>. Нужно ли еще добавлять, что левый или правый аспект данного объекта подвижен…” (с. 111). Изменения всегда совершаются слева направо: политические персонажи регулярно перемещаются слева направо, а предательство в политике, как утверждает Батай, совершается исключительно справа, “хотя отношения, позволяющие ассоциировать политическое левое и правое с сакральным левым и правым, кажутся дискуссионными” (с. 112).
Молниеносные
действия, или Пока основатели Коллежа страдали от невозможности применить свою негативность, стремительные действия политических лидеров превратили мир в подмостки, угрожающие серьезным военным спектаклем. Доклад Батая о структуре и функции армии 5 марта 1938 года оказался трагически несвоевременным: 12 марта Гитлер вошел в Вену, Австрия приветствовала аншлюс. Скрытым ответом на него явился доклад Батая от 19 марта, идея которого состояла в том, что левым формам сакрального надлежит уйти в подполье, когда готовится война (с. 148). Батай озвучил эту тему вместо Кайуа, который был специалистом по тайным обществам. Батай, вслед за Кайуа, предложил различать два типа тайных обществ: если “экзистенциальные” тайные общества создаются для того, чтобы в них существовать, то общества заговорщиков организуют, чтобы действовать. Коллеж действовать не мог. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года завершился чехословацкий кризис — подписанием мюнхенских соглашений. Коллеж осознает угрозу надвигающейся войны и пытается ей противостоять — в Nouvelle Revue Francaise появляется “Декларация социологического коллежа о международном кризисе”, подписанная Батаем, Кайуа и Лейрисом. Эта и последующие попытки реагировать на изменение политической ситуации больше напоминают разговор с самим собой — внутри своей узкой группы. Этот разговор был прерван: собеседники оказались расколоты молнией войны.
Баккара,
или 4 июля 1939 года состоялось последнее заседание Коллежа, которое Батай провел, восседая в одиночестве за столиком, служившим кафедрой: Кайуа был похищен Викторией Окампо и погружен на корабль, идущий в Буэнос-Айрес, тогда как Лейрис, после ряда колебаний и отчаянных писем Батаю, в конце концов отказался от своей роли со-председателя. Сообщение Батая должно было подвести итоги деятельности Коллежа — большая часть текста, который приводит Олье, состоит из анализа “эротической деятельности” человека и ее социогенной функции. Социальная жизнь, по Батаю, заключается в поиске “универсального бога, чтобы иметь возможность расширять пространство искусственной оргии” (с. 528). В этом финальном тексте Батай солидаризуется с отсутствующим Кайуа, который выступил со своей теорией праздника в мае 1939 года. По мнению Олье, “Теория праздника” Кайуа, как никакая другая работа, является “эмблематическим текстом” Коллежа. В этой работе Кайуа повествует о празднике первобытных цивилизаций — о пароксизме общества, который одновременно очищает и обновляет его. Праздник завершался оргиями — шумным ночным разгулом, превращавшимся в пляску под мерные удары примитивных инструментов. В конце текста Кайуа задает вопрос: не обречено ли на гибель современное общество с его праздником, выродившимся в каникулы — время разрядки, а никак не высшего напряжения всех сил? Настоящая альтернатива празднику не каникулы, а война. В “Ученике колдуна” Батай восторженно описал самоубийство за столом, где играют в баккара. Истинно человеческая судьба, согласно Батаю, должна быть подчинена воле случая, раскладу карт, а не “цепочке утилитарных актов”. Таким “случаем”, прервавшим внедрение сакрального в повседневную жизнь в Коллеже Социологии, стала война, показавшая бессмысленность попыток реанимировать сакральные феномены мирным путем. По легенде, Вальтер Беньямин хотел прочитать в рамках Коллежа доклад о моде, но его перенесли с весны на осень, решив, что история еще не стала достаточно “пустой”, чтобы можно было вести речь о подобных предметах.
* * * Почему нас так тянет сегодня к текстам Батая, Кожева, Лейриса и Кайуа? В чем актульность “негативности без применения” и прочих интеллектуальных безумств? Грубо говоря, зачем нам нужен Коллеж Социологии? Возможно, дело в том, что для нас, как и для них, радикальность — проблема внутреннего решения, а не партийной позиции. Возможно, именно в последние годы, когда движение диссидентов исчерпало себя, мы увидели смысл в диссидентстве внутреннем. Мы обратились к внутреннему опыту.
Надежда Григорьева / Констанц
1 О карьеризме и буржуазности Лакана, а также о его долгих и близких отношениях с Батаем и членами его семьи см. глубокую и полную юмора книгу Элизабет Рудинеско (Elizabeth Roudinesco. Jacques Lacan. Esquise d’une vie, histoire d’un systeme de pensеe. Paris: Fayard, 1993). Рудинеско считает, что само понятие “Реального” было заимствовано Лаканом из батаевской теории сакрального. 2 Эту защиту уже осуществил Мишель Сюриа: Michel Surya. Georges Bataille: la mort а l’oeuvre. Paris: Sеguier, 1987. 3 Этот выбор связан, очевидно, с тем обстоятельством, что в 1937 году семинары Кожева были посвящены 6-й главе “Феноменологии…”. См. обэтом: Dominique Auffret. Alexandre Kojeve: la philosophie, l’еtat, la fin de l’histoire. Paris: Grasset, 1990. P. 246. О выступлении Кожева в Коллеже Социологии и об откликах на это выступление со стороны Жоржа Батая и Роже Кайуа см.: Ibid. P. 254, 431.
|
| 2006: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2005: | 1 | 2 | 3 | |
| 2004: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2003: | 1 | 2 | 3 | |
| 2002: | 1 |